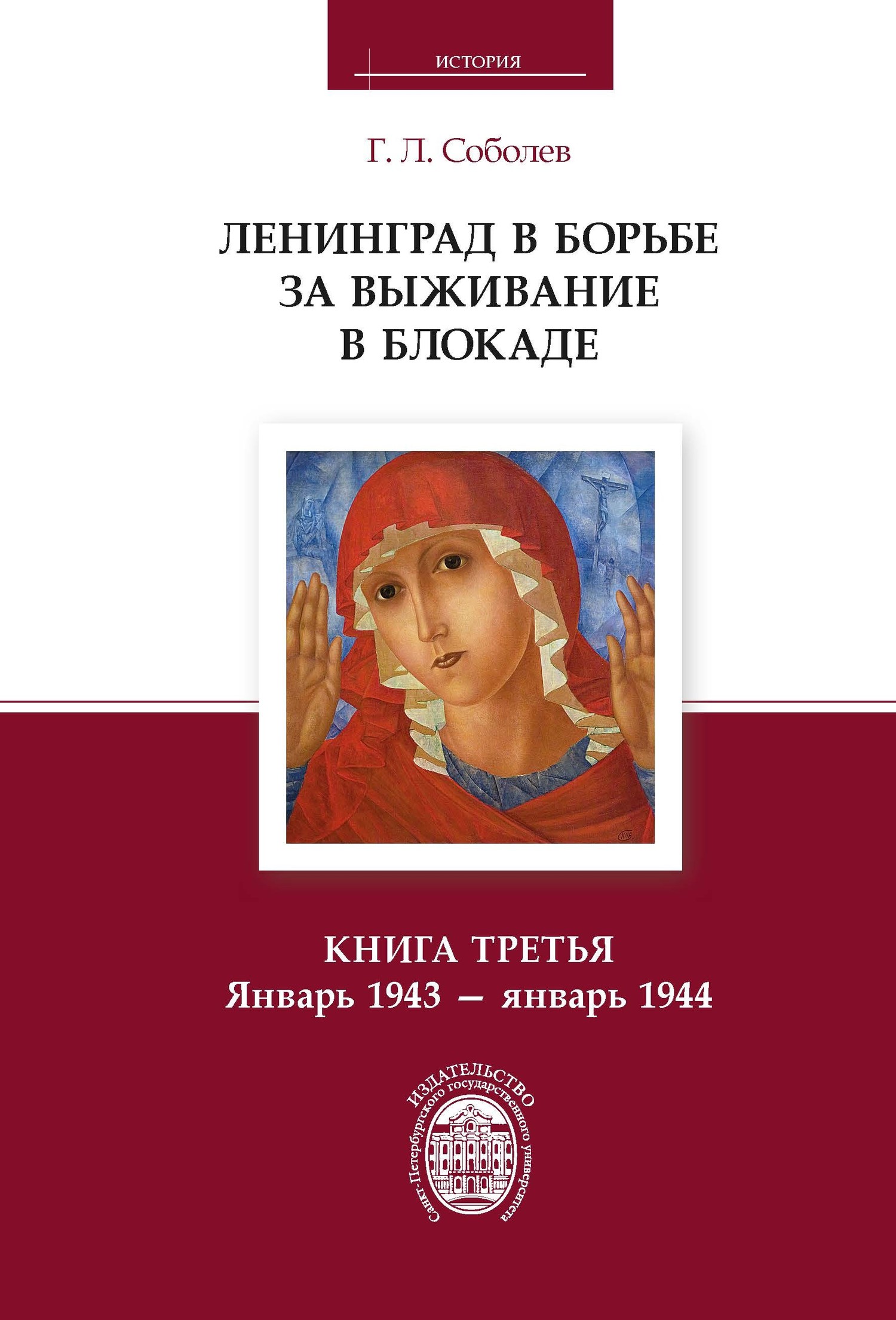Шрифт:
Закладка:
— Смотри и учись, пока я жив, — важно сказал стоящий чуть впереди Андрюшка, обернувшись через плечо к перепуганному другу. Облизав разом пересохшие губы и стараясь не выдать предательской нервозности, предводитель побега как ни в чем не бывало двинулся прямо к псу.
— Ты что, куда? Укусит! — сипло шептал ему в спину Дениска, стаскивая с головы шляпу, словно заранее прощаясь с павшим героем.
Не обращая внимания на панику приятеля, Андрюха почти вплотную приблизился к псу и громко и уверенно произнес:
— Шарик, фу! Ты что это?! Иди, поглажу…
В следующую секунду в Денискиных глазах отразилась пугающая и прекрасная картина. Собака, тряхнув лобастой башкой, села и, пригнув голову, зажмурилась, будто повинуясь детской ладони, которая осторожно гладила ее.
— Запомни, Дениска… собака — это друг человека. Хочешь погладить? — не отрывая взгляда от пса, торжествующе произнес Андрей. — Иди сюда. Сейчас погладим и дальше пойдем. Нам до моря каких-то пять минут ходу осталось, — добавил он, когда зачарованный происходящим Денис подошел к ним, мелко переступая приставным шагом.
Псину толстяк так и не погладил, но спустя полминуты рынок и дорога были у них за спиной. Уже пахло морем, ведь от линии прибоя их отделяла узкая улочка, плотно заставленная прижатыми друг к другу домами.
— А если собака — друг, чего ж она тогда рычит и за людьми бегает? — не унимался Дениска, то и дело оглядываясь назад, туда, где остался Шарик.
— Рычат собаки только на тех, кто с ними дружить не хочет, — важно отвечал ему Андрюха с видом человека, понимающего вопрос.
— А бегают… бегают зачем? Чтоб укусить? — на ходу дергал его за руку толстяк.
— Чтобы подружиться. Кусают они врагов нашей Родины. И то только на границе, — терпеливо разъяснял Андрюха.
— Да? — с надеждой переспрашивал Денис. И со вздохом добавлял, точь-в‑точь как делала это его матушка: — Странно, очень странно.
— Ничего странного, — возражал отважный приятель. — Это ж собаки. Они на границе служат вместе с пограничниками.
— Что, все служат?
— Почти, — почесав голову, немного неуверенно отвечал Андрей. — Кроме пуделей. Эти в цирке работают.
— А Шарик? Шарик тоже служил?!
— Похоже на то. Уж очень умный пес.
— А сейчас чего не служит-то?
— Старый он. На пенсии. На курорте, на море…
— Ух ты, — зачарованно протянул Дениска, задним числом переживая встречу с самой настоящей пограничной собакой.
…Когда подошва Андрюхиной сандалии коснулась серой гальки коктебельского пляжа, уходящего влево от горы Карадаг, тогда, незаметно для Дениски и всех окружающих, на свет явился истинный смысл всего этого рискованного предприятия. Белокурая пятилетняя Светлана с алым покусанным сахарным петушком в руке, в одних белых трусах, без верхней части купального костюма, стояла у линии прибоя, романтично глядя вдаль и беззастенчиво ковыряясь в носу. Позавчера Андрюха протянул ей подтаявшую на жаре сахарную вату и неуклюже завязал знакомство, от смущения пялясь себе под ноги. Когда же разговор наконец склеился, словно между делом важно сообщил юной прелестнице, что частенько ходит на море совсем один, без родителей, ведь он уже взрослый и поэтому ничегошеньки не боится, а сегодня взял маму и папу с собой, чтоб не скучно было… И пообещал прийти на днях.
И пришел.
Мария Ануфриева
Стерва
— Та-та, та-та-та. Та-та, та-та-та. Та-та-татата, таратата-та-та-та-та… — пропела про себя Оля, когда поезд «Москва — Феодосия» вздрогнул, громыхнул и тронулся от перрона, увозя с черноморского побережья отдыхающих, прильнувших к пыльным окнам, чтобы в последний в этом году раз взглянуть на полоску городского пляжа и уже недоступное море.
Муж махал Оле рукой и напоминал Брежнева из документальной хроники — вправо‑влево, та-та, «До свиданья, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес». Он был старше ее на десять лет; разница между мужчиной и женщиной, которая стирается с годами, у них почему-то не стерлась, а с каждым годом все больше расползалась, грозя из трещинки превратиться в пропасть.
Над перроном в полуденном мареве стоял запах чебуреков, пахло куревом — неизменным спутником вокзалов, запрещай его не запрещай. Оля схватила за руку шестилетнего Гришку и махала в такт медленно уплывающему мужу и «Прощанию славянки»: та-та, и чуть быстрее: та-та-та.
При расставании всегда есть обоюдное мимолетное чувство вины: у провожающих — перед теми, кто уезжает, у собравшихся в путь — перед теми, кто провожает. Странное дело: вины нет, а чувство есть, и гремящие вслед уходящим поездам песни его только распаляют, взывая, быть может, к исторической памяти и архаическому страху перед дорогой и неизвестным: что станется с теми, кто уехал, что будет с оставшимися?
Оля тряхнула головой, но это не помогло. Поезд ушел, а чувство вины не пропало. Может быть, потому, что отъезда мужа она ждала. Ему было не объяснить, зачем ей понадобилось ехать за тридцать километров в Щебетовку, где раньше жила тетка.
Тетке, давно перебравшейся в Феодосию, можно было ничего не говорить.
Гришке поездку без него можно объяснить музейным днем: картинная галерея Айвазовского; дом-музей, где Грин жил, и дом-музей, где он умер; дом-музей Паустовского, приехавшего посмотреть места, где Грин жил и умер, и полюбившего их; дом Волошина, где он прятал красных и белых во время Гражданской войны. Феодосия, Старый Крым, Коктебель — это на целый день. При слове «экскурсия» Гришка поскучнеет лицом, как отец, и с удовольствием найдет себе дела во дворе теткиного дома.
Три дня Оля вынашивала мысль о поездке в Щебетовку, подыскивая мотивы, оправдания, аргументы. Так ничего и не найдя, решила, что цель ее путешествия — «просто так». Возвращаемся же мы в места своего детства, туда, где уже нет домов, друзей и памяти о нас, для того чтобы побродить, повздыхать и в очередной раз убедиться, что и тогда хорошо было не снаружи, хорошо было внутри.
— А поцеловаться три раза? — Гришка сложил губы трубочкой, закрыл глаза и потянулся к Оле.
— Раз! Два! Три! Хорошо себя веди!
Из летней кухни в глубине двора пахло прогорклым маслом. С шести часов утра каждый день тетка пекла пахлаву и караимские пирожки для отдыхающих на пляже; в Крыму все наоборот — летом работают, а зимой отдыхают.
— Интеллигенция, — вздохнула тетка, когда Оля напомнила ей про музеи, и перевернула сочащиеся маслом, засахаренные лепестки бронзовой пахлавы на сковороде.
Закрыв калитку, Оля пошла вниз по мощенной камнем дороге; задники сандалий
![Крым, я люблю тебя. 42 рассказа о Крыме [Сборник] - Андрей Георгиевич Битов](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)